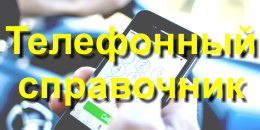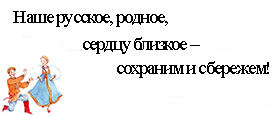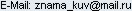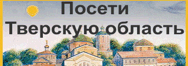Поборник слова – наш земляк великий
- Воскресенье, 2 марта 2025, 18:00
- Культура, Люди, Чтобы помнили
- Нет комментариев
В нынешнем 2025 г. мы отмечаем 125-летие со дня рождения С.И. Ожегова, нашего земляка-ученого, благодаря которому мы по сей день постигаем тайну слова через его великие труды. В честь юбилея лексикографа мы открываем цикл публикаций, посвященный С.И. Ожегову. Уважаемые читатели, у вас будет уникальная возможность познакомиться с воспоминаниями об Ожегову его сына С.С. Ожегова, рукопись которого нам любезно предоставила дочь С.С. Ожегова, внучка С.И. Ожегова Екатерина Ожегова. Материал эксклюзивный, до сегодняшнего времени нигде не публиковался, по этим воспоминаниям будет издана книга о словарнике от Бога. В юбилейный 2025-ый год лингвиста исполнится 100 лет со дня рождения его сына С.С. Ожегова. Он достойный сын отца.

23 декабря 2025 г. – 100-летие со дня рождения Сергея Сергеевича Ожегова, доктора архитектуры, профессора Московского архитектурного института.
Сергей Сергеевич ушёл из жизни в 2017-ом, в преклонном возрасте, до конца своих дней оставаясь преданным родному институту, с которым была связана вся его жизнь. Учёный и педагог – он автор многих научных трудов, статей и книг. За его плечами богатая биография архитектора – проекты, постройки, памятники, он лауреат государственных премий. Сергея Сергеевича помнят и любят его многочисленные ученики, сегодняшние архитекторы, работающие в самых разных концах света.
С.С. Ожегов родился в Ленинграде в семье известного лингвиста и лексикографа Сергея Ивановича Ожегова. В конце 30-х годов семья переехала в Москву, но в Питере остались родные, трагически погибшие в годы Ленинградской блокады. Прямо со школьной скамьи, в декабре 1943 года, Ожегов был призван в ряды Советской Армии. Ему повезло. После разгрома фашистских войск под Сталинградом исход войны был предопределён, и это спасло жизнь многим призывникам. Войну Сергей Сергеевич прошёл в войсках связи и демобилизовался в 1946-ом.
Решение стать архитектором было им принято не случайно. В Ленинграде погиб от голода за чертёжной доской Борис Иванович Ожегов, родной брат отца. Он был инженером и архитектором. Рисовать Сергей Сергеевич начал ещё в армии. После демобилизации поступил на подготовительные курсы Московского архитектурного института, а затем в сентябре 1946-го был принят в институт. Защитив диплом в 1952-ом, сразу поступил в аспирантуру. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию, которая была оформлена монографией «Типовое и повторное строительство в России XVIII-XIX веков».
Сергей Сергеевич – автор многих научных трудов, статей и книг. Он написал свыше 70 книг, альбомов, статей для журналов, энциклопедий и многотомных изданий по архитектуре, градостроительству и искусству России, Европы, Америки и стран Индокитая на русском, английском и немецком языках, опубликованных в России, США, Мьянме (Бирма), Германии. Он – автор первого в России учебника истории ландшафтной архитектуры, вышедшего в свет в 1993 г., в 2011-ом этот учебник, переработанный и дополненный, вышел в свет уже в соавторстве с Екатериной Ожеговой, его дочерью, ученицей и наследницей. Архитектором стал и внук Сергея Сергеевича, достойный продолжатель архитектурной династии, Михаил Павлович Спирин.
В 1956 г. Ожегов начал академическую карьеру с младшего научного сотрудника, в 1960-ом получил звание доцента кафедры градостроительства МАрхИ.
В 1962-м направлен в командировку в Бирму. Тогда было время активной помощи странам, недавно скинувшим колониальный гнёт. Прогрессивные люди всего мира помогали создавать научные и творческие кадры национальной интеллигенции, развивать экономику бывших колоний. Так Сергей Сергеевич стал доцентом Рангунского технологического института в Бирме. Он прожил в этой стране со своей семьей семь лет. В 1967 г. получил звание профессора Рангунского технологического института.
В соавторстве со своей супругой Ниной Ивановной Ожеговой Сергей Сергеевич написал книгу «Искусство Бирмы» («Kunst in Burma») на немецком языке, изданную в Лейпциге издательством «Зееман». Во время пребывания в Бирме был собран обширный материал об искусстве и архитектуре этого региона, который лег в основу книг «Архитектура Индокитая», соавторы Т.С. Проскурякова и его аспирант Хоанг Дао Кинь, и монографии на английском языке «Mirrored in Wood, Burmese Art and Architecture», изданной в Финляндии. Книга Сергея Сергеевича «Архитектура Бирмы» стала основой его докторской диссертации на ту же тему, которую он защитил в 1976 г.
Сергей Сергеевич прожил интересную творческую жизнь с богатой биографией архитектора – проекты, постройки, памятники, свыше 60 проектов и построек. В их числе: первые премии конкурсных проектов «Пантеон» (1953) и «Дворец Советов в Москве» (1957), «Планировка и застройка Заканального района Волгограда» (1962). За свою работу памятник 14 туркестанским комиссарам в городе Ташкент был награждён Государственной премией Узбекистана им. Хамзы Хаким-заде и присвоением звания Заслуженного деятеля искусств Узбекистана. Памятник В.И. Ленину в городе Якутске был отмечен присвоением почётного звания Заслуженного деятеля искусств Якутии. В Рангуне остались построенные по его проектам памятник Бирмано-Советской дружбы и корпуса Рангунского технологического института.
В 1969 г. С.С. Ожегов вернулся к преподаванию в МАрхИ в должности профессора кафедры градостроительства, в 1970-ом занял должность проректора по учебной работе. В 1977-ом от министерства культуры послан на работу в ООН. Тогда готовилась программа по созданию нового отделения ООН-Хабитат, в центре внимания которого стало два приоритетных направления: обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие. Сергей Сергеевич в 1978 г. вступил в должность заместителя директора Центра по населенным пунктам (Хабитат) при ООН. Он принимал активное участие в создании программы и развитии нового центра. Со стороны ООН сотрудничал с ведущими архитекторами мира. Работал с японским архитектором Кендзо Танге над проектом Международного центра мира Лумбини-парка, место рождения Будды.
В ООН Сергей Сергеевич проработал пять лет и снова вернулся в МАрхИ. В 1983-ем стал заведующим кафедрой «Ландшафтная архитектура». В конце 80-х был приглашён читать лекции по истории ландшафтной архитектуры в Корнельский университет США, где получил звание профессора Корнельского университета, которое очень ценил и которым гордился.
После возвращения из Америки в 1991 г. Сергей Сергеевич оставил должность заведующего и стал профессором кафедры ландшафтная архитектура МАрхИ, коим оставался до самой смерти.
Представляем твоему вниманию, любезный читатель,
рукопись сына о жизни семьи Ожеговых.
Частные воспоминания о XX веке

Мой отец, Сергей Иванович Ожегов, принадлежал к числу уникальных людей своей эпохи. Его «Словарь русского языка», вышедший в двадцати четырех изданиях, другие его труды побуждают представить его кабинетным ученым, как бы сошедшим с экрана из фильмов того времени, подобных «Депутату Балтики», воплощенному великим русским актером Черкасовым. Но отец был иным. Он имел яркий и своеобразный характер, достойный, быть может, пера А. Н. Островского, одного из любимых его писателей.
Ожеговы — фамилия уральская. Она происходит от слова «ожег» (ударение на «о»). Так в старину называлась палка, которую окунали в расплавленный металл, чтобы определить степень его готовности. Отец говорил, что мы происходим от одного из демидовских крепостных, которому чудом удалось спастись из затопленных подвалов Невьянского завода. Этот эпизод уральской истории хорошо показан в известном фильме «Петр I», снятом по сценарию А.Н. Толстого. Мой прадед Иван Григорьевич более пятидесяти лет работал лаборантом на Екатеринбургском заводе. У него было четырнадцать сыновей и дочерей, все они получили высшее образование.
По женской линии отец происходил из «колокольного дворянства». Нашими предками была династия псковского духовенства, Дегожские и Опоцкие, жившие в городке Опочке. Двоюродный дед отца архиепископ Алексей Алексеевич Опоцкий похоронен в Донском монастыре в Москве. Отец Алексея Алексеевича приходился близким родственником Герасиму Павскому, известному философу-богослову первой половины XIX века.
Семейные анекдоты повествуют об удивительной рассеянности знаменитого философа. Будучи в гостях у князя Васильчикова, он сморкался в салфетки и клал их потом в карман. Заметил это, только набрав пять салфеток. А когда пил однажды чай с каким-то купцом, то съедал сухари, которые тот макал в чай.
Вместе со своим приятелем Александром Пушкиным Павский бывал в доме Опоцких. У Пушкина даже место свое там было во время чаепитий за самоваром из красной меди. Самовар долго хранился в семье Дегожских и их потомков, а потом, после Великой Отечественной войны, был, кажется, передан в Михайловское. Не знаю, сохранился ли он.
Родился отец на рубеже нашего века, в сентябре 1900 года, в фабричном поселке Каменное Тверской губернии. Мой дед Иван Иванович работал там инженером на новой большой бумажной фабрике Кувшиновых. Владелица фабрики Ю.М. Кувшинова была близка социал-демократическим идеям и даже находилась некоторое время под надзором полиции. Уже после революции, с благословения «всероссийского старосты» Калинина поселок назвали в ее честь городом Кувшиново. Каменскую фабрику Кувшинова построила отлично, оборудование установила первоклассное. Еще в начале 1990-х годов в одном из цехов работала бумагоделательная машина, смонтированная моим дедом в конце прошлого века. Любопытно, что в 1949 году первое издание отцовского словаря напечатали на кувшиновской бумаге, и, кто знает, не была ли сделана эта бумага на одной из машин, смонтированных дедом?
Каменное принадлежало к числу необычных промышленных поселков, появившихся в России на рубеже XIX и XX веков. В то время прогрессивные передовые предприниматели строили при своих новых заводах благоустроенные поселки для рабочих. В Твери и Гусь-Хрустальном, в Петербурге и Москве, в больших городах и провинциальной глуши вырастали краснокирпичные заводские корпуса, рядом с которыми строились каменные жилые дома, магазины, больницы, школы, народные дома (как тогда называли рабочие клубы). В Каменном Кувшинова построила великолепный Народный дом с большим театральным залом и с гимназией, где на казенный счет обучались все дети рабочих фабрики. Дом и сейчас, сто с лишним лет спустя, благополучно функционирует вместе с внушительными магазином и больницей. Дома для рабочих Кувшинова строила, выделялись земельные участки и ссуды на строительство. От Торжка она протянула до Каменного железнодорожную ветку, что решительно повысило статус этого небольшого поселка. Для инженеров и руководства был построен двух- этажный фабричный дом с удобными квартирами.
Молодого инженера, только что окончившего Петербургский политехнический институт, поселили именно в этом доме, в большой четырехкомнатной квартире. Ожеговы были общительны и гостеприимны. На старых фотографиях запечатлены семейные праздники с многочисленными братьями и сестрами Ивана Ивановича и его жены Александры Федоровны. Зимой, 1896-97 годах, в тихое провинциальное Каменное приехал отдохнуть от суетной жизни больших городов А.М. Горький. Он со своей семьей гостил у старого знакомого, фабричного химика Васильева, соседа Ожеговых по дому. Горький прожил в Каменном около трех месяцев, очень часто бывая у Ожеговых, где постоянно собиралась по вечерам местная интеллигенция поиграть в карты и попить чайку. Маловероятно, что дед принимал сколь-нибудь активное участие в социал-демократическом кружке, о котором писали кувшиновские краеведы, но не вызывает сомнения, что известное вольнодумие, свойственное русским интеллигентам, отец начал впитывать уже в Каменном, в самом нежном возрасте.
Начало военной службы было нелегким. Уже в январе 1919-го отец отступал под натиском белоэстонцев и белофиннов из Нарвы. Потом были долгие и безрезультатные бои за возвращение Нарвы. Эти бои он закончил уже в должности начальника штаба батальона. Год прошел в боях в Карелии. Я слышал от отца, что эти бои были очень тяжелыми. Непримиримую жестокость проявляли финны, и белые и красные. Были даже случаи своего рода ритуального каннибализма – и те, и другие «жарили котлеты» из мяса убитых врагов-соплеменников. Нравы в армии были своеобразными. Однажды отец по недосмотру подписал приказ красными чернилами. Полковой комиссар чуть не расстрелял его за это: подписывать документы красными чернилами могли, по его мнению, только большевики. За бои в Карелии отец получил награду: «право ношения особого жетона в память освобождения Советской Карелии от белофинских банд». Жетон, к сожалению, не сохранился.
В середине 1920 года дивизию, где служил отец, перебросили в Южную Украину, на врангелевский фронт. Здесь он командовал полковой разведкой, стал начальником штаба полка. Ему не пришлось участвовать в больших знаменитых операциях. Послужной список говорит о сражениях за безымянные высоты, о боях в днепровских плавнях. Приходилось участвовать в ликвидации различных банд, которых в то время развелось великое множество. К концу активных боевых действий отец стал начальником штаба тыла 15-й Инзенской Ордена Красного Знамени дивизии. После войны, до 1922 года, он служил на руководящих должностях в штабе Харьковского военного округа в Екатеринославе (Днепропетровске).
Сохранилось несколько писем, полученных отцом из дома в 1921 и 1922 годах. Обычные письма того времени: голодно, разводим огород, спасибо за посылки, ждем в отпуск, ждем совсем. Брат Борис, очень привязанный к отцу, пишет о планах жизни, о поступлении в институт, о волнениях мамы. «Сережа, дорогой, — говорит он в июне 21-го года, – ты для меня с твоих подвигов в Опочке на общественном поприще был образцом силы, которую ничто не сломит. К тебе судьба еще не совсем охладела… А вот Леша Кузьмин расстрелян в «Кроншпиле» – так, зря… » Всего 19 лет оставалось до той страшной зимы 41-го, когда не стало ни Бориса, ни всей нашей ленинградской семьи. Не осталось ни писем, ни вещей – всего того, что обычно составляет семейную память.
Отец ни разу не был ранен или контужен, но война оставила на нем свой след. Всю жизнь его периодически преследовали приступы депрессии, боязнь больших открытых пространств. Когда после окончания гражданской войны отцу предложили учиться в военной академии, он отказался, демобилизовался по состоянию здоровья и продолжил учебу на филологическом факультете Петроградского университета.
Отец вернулся в милый родительский дом на Фонтанке и перед окончанием университета, в 1925 году, женился на студентке-филологе из педагогического института имени Герцена, красавице Имочке, Серафиме Алексеевне, дочери священника из Любани, Алексея Алексеевича Полетаева. Дедушка Леша, как я его звал, был человеком неординарным. В молодости хотел поступить в консерваторию (слух у него был идеальным), но судьба судила иначе. Подчинившись отцовской воле, он закончил семинарию, женился на дочери отставного фельдшера Вельмонстрандского полка и стал деревенским священником. Конец жизни он священствовал в Любани, в церкви, которую строил знаменитый архитектор К. Тон, автор храма Христа Спасителя в Москве. При церкви был похоронен строитель первой крупной русской железной дороги Петербург-Москва инженер П. Мельников. Дедушка Леша был широко эрудированным, интересным человеком. Он подружился со своим зятем, моим отцом, и они охотно коротали порой вечера за бутылочкой. Часто дедушка Леша садился за фисгармонию (небольшой орган, похожий снаружи на пианино). Играл он виртуозно, причем не только духовную музыку, но и классику, а иной раз и плясовую. В 1930 году, незадолго до смерти, дед получил сан протоиерея.
Родители мои прожили вместе почти сорок лет до кончины отца в 1964 году. А тогда, после демобилизации, начался новый этап его жизни. Долгие военные годы кончились, пришла нэп, и жизнь постепенно входила в нормальную колею. Ожеговская молодежь любила веселиться. В доме бывали разные молодые люди из петербургской интеллигенции. Младший брат отца, дядя Женя, «белоподкладочник» – студент «элитного», как теперь называют, Путейского института, ухаживал за ученицами балетного училища. Говорили, что бывала у нас совсем юная Уланова. Дядя Боря, средний брат, учился в Институте гражданских инженеров на архитектурном факультете. К нему приходили друзья-архитекторы. Самый близкий из них, Кирилл Дмитриевич Халтурин, что-то рисовал мне и великолепно изображал звуками отход поезда. Появлялись еще пахнущие кожей ремней военные высоких рангов – знакомые отца по армии. Хорошо помню одного из них (он давал мне поиграть свой наган, вынув из него патроны), Павла Юрьевича Цеге фон Мантейфеля, носившего петлицы с четырьмя «шпалами». Потом он незаметно исчез.
Отец был немногословным, но общительным человеком, легко находившим общий язык с любыми людьми. Он начал преподавать русский язык, еще учась в университете, был в своем роде уникальным студентом. Он, например, единственный записался на курс академика Б.М. Ляпунова и так в одиночку и прослушал этот курс. Отец окончил университет в 1926 году, но еще до этого стал «своим» в небольшом кругу ленинградских лингвистов, познакомился с московскими коллегами. За 4-5 лет он был оценен и стал младшим коллегой таких известных лингвистов, как В.В. Виноградов, Б.А. Ларин. Особенно важным было знакомство с Д.Н. Ушаковым. Оно определило всю дальнейшую судьбу отца. Дмитрий Николаевич, известный русский лингвист, автор первого после Даля четырехтомного «Толкового словаря русского языка», привлек его к своей работе, и он стал часто и порой надолго ездить в Москву.

1935 год принес отцу еще одно знакомство, которое перешло в тесную дружбу, продолжавшуюся всю жизнь. В ноябре в Ленинград в командировку приехал уже известный к тому времени московский лингвист А.А. Реформатский, ровесник отца. Вот как он сам описал в своих записках первую встречу с отцом в нашем доме на Фонтанке. «Встречаемся тет-а-тет с самим. Физиономия ничего.., скорее, привлекательна. Но не больно речист, и пока выясняли, пьет ли Реформатский или еще что делает, вдруг пошло дело к 12 и шабаш! С. И., сообразив, куда штоф клонит, немедля потек «на уголок» и принес «доппель-кюммеля» в достаточном количестве… А перед этим вышла жена Ожегова, Серафима – и я замер.., как же хороша, улыбчата, пригожа… С этого дня и началась наша дружба с Барином». (Прозвище «Барин» было дано отцу Реформатским за его неизменный подчеркнуто элегантный вид.)
Начало дружбы с Реформатским совпало со сложным периодом в семейной жизни отца. Среди ожеговских знакомых была любопытная пара: брат и сестра Стельпы. Думаю, что Георгий Александрович был одним из военных знакомых отца, служившим на КВЖД. Его сестра, Зинаида Александровна, представлялась мне очень красивой женщиной. Я смутно помню их, хотя они достаточно часто начали бывать в нашем доме. Потом они перестали появляться, и вскоре мне было сообщено, что папа с мамой разводятся, причем папа женится на Зинаиде Александровне, а мама выходит замуж за Георгия Александровича. Меня это тогда мало волновало: в связи с переменой обстоятельств в жизни родителей нам с мамой почему-то предстояла поездка в Ташкент, к дядюшке мамы, и все мои мысли были связаны с этим необыкновенным предстоящим событием.
Мы отбыли в далекое семисуточное путешествие летом 1936 года. Отец провожал нас, хотя мама и ехала на свидание с новым мужем. Я был поражен роскошью «международного» вагона, обшитого снаружи желтой деревянной лакированной рейкой, отделанного сияющей бронзой и красным бархатом внутри. И отдельная уборная на каждые два двухместных купе. Запах был в вагоне особый, специфический запах международного вагона. (Помните у Блока: «молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели».) Я впервые попал в таинственную для меня Москву, куда так часто ездил отец, и ночевал в квартире в 7-м Ростовском, где последнее время он стал останавливаться у Реформатского. Видел я за один день мало, но некоторые отличия остались в памяти. Во-первых, трамваи были совсем не такие, как в Ленинграде. Во- вторых, по улицам ходили неизвестные у нас троллейбусы. И уж совсем диковинным было метро, причем не только его эскалаторы и другая техника, но и весь обиход. Народу по нынешним меркам было совсем мало. Красота и чистота станций восхищала. Процедура отправки поездов выглядела торжественно: когда посадка заканчивалась, дежурный в хвосте поезда поднимал круглый жезл, помощник машиниста громко восклицал «Готов!», двери закрывались, и поезд трогался.
Впечатления от поездки живут во мне до сих пор, но, пожалуй, здесь не место писать о них. Скажу лишь, что знакомство со Средней Азией, произошедшее неожиданно и в связи с событиями в жизни моих родителей, заставило меня услышать «Зов Востока», повлиявший на всю мою судьбу и звучащий в моей душе до сих пор.
Не знаю, что произошло за время нашей поездки в Ташкент, но по возвращении в Ленинград жизнь пошла так, будто никаких разводов и не было. Георгий Александрович и его сестра исчезли из моей жизни навсегда. Был, правда, еще один разговор с отцом перед нашим с мамой отъездом на дачу в Тихвин. Отец сказал: «Сережа, у меня к тебе очень серьезный разговор. На станции Званка, откуда идут поезда в Мурманск, вас может встретить Георгий Александрович. Он будет уговаривать маму и тебя ехать с ним. Не соглашайся и ни в коем случае не давай маме уехать с ним». Георгий Александрович не появился. Этот эпизод мне кажется характерным для отношения отца к семье. Я знаю, что были, по крайней мере, еще две попытки увести его из семьи, но обе не увенчались успехом. До последнего часа он был верен своему дому и своим близким.
Отец занимал не очень большое место в моей жизни. Мы никогда не были близки по-дружески, по-настоящему, наверное, оба были виноваты, не умея найти контакты. При этом я знаю, что он любил меня неподдельно и сильно и гордился моими успехами (коллекционировал, например, газетные вырезки обо мне). Помню, как маленьким сидел у него на коленях, за его огромным письменным столом (откуда он был? он всегда был старым) и просил нарисовать «паровоз и много-много вагончиков». Отец послушно рисовал, хотя: вообще-то рисовать не умел. Раз-другой ходили гулять. Это было событием. Особенно же большим событием стала волшебная поездка в Новгород летом 1938 года. Мы жили тогда на даче на Волхове, напротив бывшего аракчеевского поселения Селищенские казармы, где-то посередине между Новгородом и Чудовым.
Материалы и фото –
из семейного архива Ожеговых.
Страницу подготовила Анна ТЕРЕНТЬЕВА